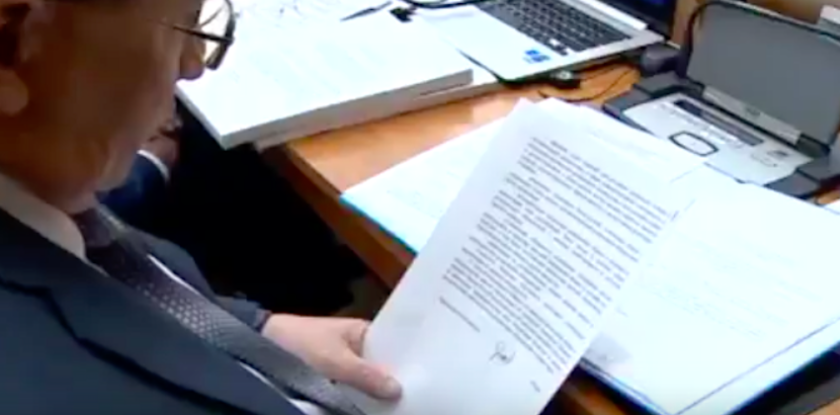По нашей оценке, самая спорная часть отчета Национального банка РК по финансовой стабильности за 2015-2017 годы это раздел «Основные выводы». Нежелание выйти за рамки ведомственной ответственности и незнание политической истории сыграли злую шутку с аналитиками, готовившими этот документ.
В статье «Забыли про Келимбетова?» мы сообщили читателям, что 22 мая 2018 года председатель Национального банка РК Данияр Акишев презентовал «Отчет по финансовой стабильности за 2015-2017 годы». Это сложный и многоуровневый документ, в котором имеет значение не только то, что в нем написано, проанализировано, отмечено и подчеркнуто, но и то, что не упомянуто или затронуто мимоходом. Предназначен он для профессионалов финансового рынка и достаточно сложен для восприятия неподготовленной аудиторией, поэтому мы решили сделать к нему серию комментариев, отметив самые важные, на наш взгляд, места.
Эту статью начнем с утверждения авторов, что: «Риски для финансовой стабильности Казахстана, которые реализовались в последние годы или создавали угрозу потерь, были необычными по масштабу, вызвавшим их причинам и динамике проявления».
Мы согласны с тем, что для молодого казахстанского государства, его еще формирующегося бюрократического аппарата и некачественной и неэффективной правящей элиты негативные проявления последних лет действительно были необычными по масштабу, вызвавшим их причинам и динамике проявления. Однако, по нашему мнению, одна из главных причин столь крупных экономических и социальных потерь страны в результате кризиса – изживший себя авторитарный политический режим, забронзовевшая суперпрезидентская вертикаль, отсутствие механизма обратной связи между властью и народом, безальтернативность экономической политики и системная слабость полурыночной экономики.
Очевидно, что наш тезис можно оспорить, однако проблема Казахстана состоит в том, что политические ограничения, в том числе отсутствие площадок для публичных дискуссий и неготовность экспертного сообщества и бизнеса выходить за очерченные сверху рамки, приводят к тому, что политика будет продолжать довлеть над экономикой, а полуреформы проводиться так, чтобы не нарушить пресловутую «внутриполитическую стабильность».
Далее в разделе «Основные выводы» Отчета изложены наиболее существенные риски, проявившиеся в 2015-2017 годах. Цитируем (выделения сделаны нами):
«высокий и неснижающийся уровень неработающих займов, который поставил вопрос о причинах низкого качества кредитных решений в отдельных банках, практиках связанного кредитования и хронической, непродуктивной пролонгации, достоверности финотчетности и раскрытия качества активов и достаточности капитала, низком уровне корпоративного управления, а также ограничениях прав кредиторов по отношению к проблемным заемщикам;
практическая ограниченность регуляторного мандата для принятия и использования собственного суждения относительно адекватности сформированных банками провизий по ссудному портфелю, а также недостатки механизма разрешения и урегулирования проблемных банков, и в частности ограничения в правоприменении принудительного урегулирования структуры капитала банка и переносе потерь банка на кредиторов;
фиксированный обменный курс и его низкая убедительность, которые привели к рекордному уровню долларизации, высоким и непредсказуемым процентным ставкам, потере многими производителями конкурентоспособности, ухудшению платежного баланса, объяснявшимся аномальным ростом потребления в ответ на ухудшение внешних условий торговли, и другим избегаемым последствиям».
Из выше процитированного текста четко видно, что аналитики Национального банка РК, а за ними и его руководство, совершили стандартную ошибку профессионалов финансового рынка (ту самую, которую Козьма Прутков обрисовал словами: «Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя»). То есть они не смогли (не осмелились) выйти за пределы сферы ведомственной ответственности.
Соглашаясь, что низкое качество кредитных решений и непродуктивная пролонгация содействовали высокому и не снижающемуся уровню неработающих займов, мы тем не менее считаем, что куда более важную и критическую роль сыграли неконкурентоспособность, слабость и зарегулированность казахстанской экономики, а также избыточность в ней государственного сектора. Все остальное же, включая недостоверность финансовой отчетности и раскрытия качества активов и достаточности капитала, низкий уровень корпоративного управления и так далее – это результат обычного, регулярного и неизбежного компромисса между тем, что менеджерам положено делать, и тем, что им диктует повседневная жизнь.
Что же касается утверждения о «Практической ограниченности регуляторного мандата для принятия и использования собственного суждения относительно адекватности сформированных банками провизий по ссудному портфелю», то, по нашему мнению, это явная попытка Национального банка РК и Данияра Акишева попытаться решать секторальные проблемы, являющиеся частью общеэкономических проблем, за счет усиления своих административных полномочий.
Исторический опыт подсказывает, что движение по этому пути приводит к частичным успехам на первых этапах, особенно, если Акорда позволит регулятору создать при себе «Особое совещание», на котором «тройка» будет выносить внесудебные решения, обязательные для всех участников финансового рынка, но не более того. Увы, такое административное рвение чиновников Национального банка РК – это всего лишь дань их непрофессионализму на фоне служебного рвения, а также нежелание изучать политическую историю.
Фиксированный обменный курс и его низкую убедительность, которые привели «к рекордному уровню долларизации, высоким и непредсказуемым процентным ставкам, потере многими производителями конкурентоспособности, ухудшению платежного баланса», мы уже прокомментировали в первой статье нашей серии. Если бы не прямая заинтересованность Акорды, зарегулированность национальной экономики государством и системный приоритет политики над экономикой, девальвации тенге последних лет могли быть проведены существенно раньше и, соответственно, виновников случившегося следует искать вверху, во власти, а не внизу, на рынке.
Далее в Отчете указано, что (выделения сделаны нами) «основными причинами системных провалов финансового сектора, и в частности, банков, были проблемы, традиционно считающиеся проблемами финансового развития, а именно:
«1. Ограниченность регуляторного мандата при выявлении проблемных займов и урегулировании проблемных банков.
Практические ограничения для применения регуляторного мандата при определении достаточности провизий и капитала привели к значительному росту числа фактически недокапитализированных банков, в которых структура мотивации способствовала еще большему росту проблемных займов».
«2. Структурные проблемы экономики, наиболее важными проявлениями которых являются структурная безработица, низкий уровень урбанизации, низкий уровень правовой и финансовой грамотности, высокая стоимость эффективной единицы труда, высокая концентрация экономики на сырьевом секторе, низкие и неравномерные доходы населения, их сильная зависимость от внешних условий торговли.
3. Недостаточный уровень институциональной среды, включая правовые вопросы, и особенно вопросы и проблемы защиты, передачи прав собственности».
«4. Вопросы и проблемы макроэкономической политики.
Наиболее очевидные проблемы макроэкономической политики были в существенной степени нейтрализованы с переходом на плавающий обменный курс, началом и успешным переходом на политику управления предложением первичной ликвидностью с целью стабилизации процентных ставок, принятием рамочного подхода к инфляционному таргетированию. Принятие новых фискальных правил, обеспечивающих поэтапное снижение трансферта из Национального Фонда и сокращение ненефтяного дефицита, также улучшило прозрачность, предсказуемость и устойчивость фискальной политики».
«5. Уровень развития и регулирования институтов финансового рынка, обеспечивающих преодоление информационной асимметрии, включая низкий уровень, востребованность и целостность институтов финансовой, управленческой и регуляторной отчётности».
Из выше процитированных абзацев следует, что нежелание (неспособность) аналитиков и руководства Национального банка РК выйти за пределы сферы своей ответственности снова сыграли с ними злую шутку и превратили подготовленный документ в демонстрацию их профессиональной ограниченности.
Об этом же свидетельствует и утверждение о том, что именно «ограниченность регуляторного мандата при выявлении проблемных займов и урегулировании проблемных банков» стала первой по важности причиной системных провалов казахстанского финансового сектора.
Что же касается структурной безработицы, которую аналитики Национального банка РК обозначили первой в списке структурных проблем, то это или недоразумение, или попытка навести тень на плетень. Да, в стране наблюдается дефицит профессионалов практически во всех сферах деятельности. Но не факт, что он критичнее для успешного развития национальной экономики, чем слабость предпринимательского корпуса и правящей казахстанской элиты.
Ну и в завершение приведем утверждение, что «наиболее очевидные проблемы макроэкономической политики были в существенной степени нейтрализованы с переходом на плавающий обменный курс, началом и успешным переходом на политику управления предложением первичной ликвидностью с целью стабилизации процентных ставок, принятием рамочного подхода к инфляционному таргетированию».
На наш взгляд, это откровенная ложь. Возможно, мы бы согласились, если бы в тексте Отчета была оговорка, что речь идет о макроэкономической политике, за которую отвечает непосредственно Национальный банк РК. Но этого нет, и в результате получилась глупость.