Что делает современное поколение детей слишком осторожным, чтобы добиваться успеха в жизни? И почему в итоге вырастают люди, убежденные, будто государство-нянька должно заботиться о них на каждом повороте? Есть мнение, что корни проблемы нужно искать в неэффективной политике и родительской паранойе.
В последние десятилетия произошел переворот в подходе к воспитанию детей. Если раньше было естественным, что шестилетки гуляют сами по себе и играют без постоянного надзора взрослых, то теперь дети подвергаются постоянному контролю. Вместо того, чтобы самим придумывать игру, договариваться о правилах и разрешать конфликты, они находятся под постоянным управлением со стороны родителей или педагогов. Но не получив в детстве навыков социальной самоорганизации, люди и повзрослев продолжают требовать того, чтобы все вокруг было максимально отрегулировано.
Гиперопека лишает детей самостоятельного мышления, социальных навыков и творческого подхода. В итоге вырастают люди, не умеющие критически мыслить и отстаивать свою точку зрения. Как стадо баранов они готовы идти за пастухом куда угодно, что очень на руку авторитарным режимам.
О последствиях гиперопеки размышляют в статье, опубликованной на страницах журнала Reason, ее авторы - Ленор Скенази и Джонатан Хайдт. Несмотря на спорность некоторых тезисов, статья заслуживает внимательного прочтения. Предлагаем нашим читателям ее перевод на русский язык.
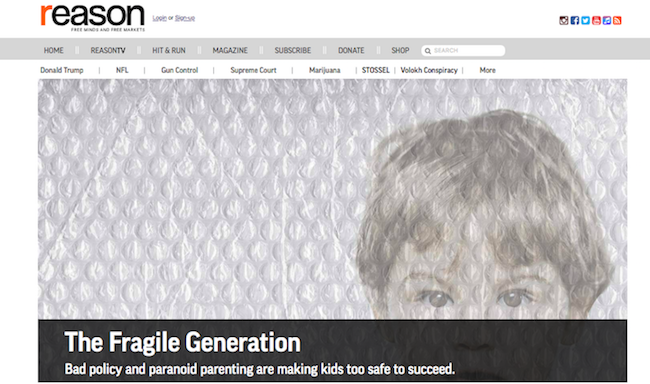
«Хрупкое» поколение
Как-то раз в прошлом году, некий гражданин встретил в чикагском пригороде Элмхерст подростка, занятого рубкой дерева. Не разделыванием тела, заметьте. Он просто рубил уже упавшие ветки. Гражданин, тем не менее, вызвал полицию.
Полицейские допросили мальчика, который сказал, что хотел построить крепость для себя и своих друзей. По информации местного новостного сайта, полицейские «забрали инструменты для безопасного хранения, чтобы вернуть их потом родителям ребенка».
В другом уголке США дошкольники, воспитанники центра совместного обучения (Learning Collaborative) в Шарлотт, Северная Каролина, несказанно радовались подарку – игровой площадке, которая была хоть и слегка подержанной, но в хорошем состоянии. Однако вскоре дети узнали, что насладиться подарком им не придется, так как был установлен на траве, а не на древесной щепе. «Это вопрос безопасности», - объяснила представитель детского сада. Играть на траве – вразрез с местными нормативными требованиями.
А еще несколько лет назад журнал Parents («Родители») задал вопрос: «Ваш ребенок уже достаточно взрослый, чтобы оставаться ненадолго дома. И так часто происходит. Будет ли для вас приемлемым оставить ненадолго вашего ребенка вместе с его другом, пока вы сбегаете в химчистку?» Ни в коем случае – таков был средний результат: «Детей нужно взять с собой или отправиться в химчистку в другое время». Как бы там ни было, «нужно позаботиться, чтобы чувства детей не пострадали в случае ссоры».
В основе всего этого лежит простой принцип: нынешнее поколение детей должно быть защищено так, как ни одно другое до этого. Они не могут использовать инструменты, играть на траве и, безусловно, никто не ожидает, что они смогут самостоятельно выяснять отношения друг с другом.
Именно поэтому, возможно, у нас появились «островки безопасности» в университетских кампусах и миллениумы не становятся взрослыми. Мы сказали целому поколению, что безопасности не бывает слишком много, и оно поверило нам.
Безопасность прежде всего
Безусловно, мы руководствовались самыми лучшими побуждениями. Однако наши действия по защите детей могут выйти нам боком. Когда мы растим детей, не привыкших самостоятельно сталкиваться ни с чем – брать на себя риск, терпеть поражение, испытывать боль – это угрожает обществу и даже экономике. И, тем не менее, современные практики и нормативы воспитания детей нацелены на то, чтобы культивировать эту неподготовленность к жизни. Существует страх, что всё, что наши дети видят, делают, едят, слышат и лижут может им навредить. В системе высшего образования даже появилась новомодная идея, что слова и мысли сами по себе могут травмировать студента.
Как же мы дошли до идеи, что целое поколение детей не сможет справиться с самыми основными вызовами, с которыми, взрослея, сталкивается каждый?
Начиная с 1980-х, детство в Америке изменилось. Тому существует ряд причин, включая изменения в подходах к родительскому воспитанию, новые стандарты образования, усиление надзора, технологический прогресс и особенно повышенный страх похищения ребенка (фотографии похищенных детей на упаковке молока заставляли людей думать, что это исключительно редкое преступление было вполне распространенным). И дети лишились возможности проводить много времени самостоятельно – играя, исследуя окружающий мир и решая собственные проблемы. Они стали более чувствительными, более обидчивыми и зависимыми от других. Их научили обращаться к старшим для решения проблем и защиты от неприятностей – состояние, которое социологи называют «моральная зависимость».
Это представляет угрозу открытости и гибкости ума, которой молодым людям необходимо обладать, чтобы достичь успеха в колледже и за его пределами. Если они начинают свое образование или карьеру, не представляя себе, что такое фрустрация или недопонимание, можно ожидать, что они будут гипер-чувствительны ко всему, что их окружает. И если они не разовьют в себе способности справляться с трудностями, кротовые выбросы могут показаться им горами.
Повышенное внимание к опасности и эмоциональной травме превалирует в современном университетском кампусе. Сейчас уже неважно, что человек хотел сказать или как адекватный слушатель мог бы интерпретировать какое-либо суждение. Имеет значение только то, является или не является человек обиженным этими словами. Если да, тот, кто их произнес, обвиняется в «микроагрессии», психологической мини-атаке, а субъективная реакция обиженного становится достаточной причиной, чтобы сообщить об этом декану или подать жалобу университетской команде «реагирования на предвзятость» (bias response team). Суммарный эффект таков, что, по их собственным словам, и преподаватели, и студенты «ходят по яичной скорлупе». Это мешает процессу свободного исследования и открытой дискуссии, которые являются базовыми элементами высшего образования.
И если это так уже сейчас, то что будет с детьми, которые в настоящее время учатся в начальной школе и которым постоянно напоминают, что они могут случайно кого-то обидеть «не тем словом»? Когда сегодняшние восьмилетки станут 18-летними первокурсниками, будут ли они считать свободу слова достойной защиты? Как сказал Дэниел Шукман (Daniel Shuchman), руководитель «Фонда прав личности в образовании» (Foundation for Individual Rights in Education): «Насколько необходимой они будут считать Первую поправку к Конституции, если еще в пятом классе они усвоили, что определенные вещи запрещено говорить или даже думать, особенно в школе»?
Родители, учителя и преподаватели в университетах говорят о уязвимости молодого поколения. Напрашивается вывод, что чрезмерное беспокойство о безопасности детей и гипер-чувствительность студентов – две стороны одной медали. Столь упорно пытаясь защитить наших детей, мы делаем их слишком осторожными, чтобы довиваться успеха.
Дети на поводке
Если вам больше 40, ребенком вы, скорее всего, много времени проводили самостоятельно: после уроков, на выходных, во время летних каникул. И, скорее всего, у вас в арсенале много историй о том, как вы играли в лесу или катались на велосипеде, пока фонари не зажигались на улицах.
Сегодня многие дети воспитываются как «телятина». Всего 13% из них ходит в школу пешком. Многие из тех, кто едет на автобусе, ожидают его на остановке вместе с родителями, которые стоят рядом подобно телохранителям. Некоторое время власти Род-Айленда подумывали принять закон, запрещающий детям выходить из автобуса днем, если взрослые не встречали их на остановке. Правило должно было распространяться на детей до седьмого класса.
Что до летних развлечений, сейчас в лагере дети должны брать с собой не просто одного приятеля, куда бы они ни шли (и в туалет тоже), они должны брать двоих – один должен остаться с тем, кого обидели, другой – бежать к взрослым за помощью. К посещению туалета в этих заведениях относятся примерно так же, как к покорению Килиманджаро.
После уроков дети уже не возвращаются домой с собственным ключом и не гуляют по улицам. Вместо этого они заняты организованными активностями под чьим-либо присмотром Детский спорт – это $15-миллиардный бизнес, который вырос на 55% с 2010 года. Уже будучи третьеклассниками, дети вступают в выездные команды, что означает, их родители тоже проводят много времени в машине. Или – они у репетиторов. Или – на занятиях музыкой. На худой конец они сидят одни в своей комнате.
Даже если родители отправляют детей на улицу (и разрешают не возвращаться до обеда!), все не так-то просто, как было раньше. Часто им просто не с кем играть. Что еще досаднее, тем взрослым, которые считают, что для детей нормально бегать по своим делам или играть в футбол на улице, приходится дважды подумать прежде чем разрешить им это, потому что назойливые соседи, полицейские и работники социальной сферы обучены ставить знак равенства между «без присмотра» и «оставленный в опасности».
Возможно, вы помните случай с семьей Мейтив из Мэриленд, в отношении которой дважды проводилось расследование, так как родители позволяли детям десяти и шести лет вместе возвращаться домой из парка. Или историю Дэбры Харрелл из Южной Каролины, когда мать отправилась в тюрьму за то, что позволила 9-летнему ребенку играть на площадке для отдыха с дождевыми установками, пока она работала в «Макдоналдсе». Или историю 8-летнего мальчика из Огайо, который должен был поехать на автобусе в воскресную школу, но вместо этого оправился в магазин. Отца мальчика арестовали то, что он подверг ребенка опасности.
Эти примеры демонстрируют новую картину мира: уверенность в том, что, если дети делают что-то самостоятельно, они автоматически подвергаются опасности. Но это видение неверно. Уровень преступности в США находится на уровне 1963 года. То есть, когда большинство сегодняшних родителей росло, играя на улице, это было более опасно, чем сегодня. И безопаснее стало не то того, что мы носимся с детьми как наседки. Уровень всех насильственных преступлений снизился, включая преступления против взрослых.
Опасные вещи
Но мы все равно не чувствуем себя в безопасности. Согласно исследованию 2010 года, похищение ребенка является основным родительским страхом несмотря на то, что быть пассажиром в машине намного опаснее. Всего 9 детей было похищено и убито незнакомцами в 2011 году; в том же году 1140 детей погибло в автомобильных авариях. Психолог Стивен Пинкер (Steven Pinker) в своей книге 2011 года «Добрые ангелы человеческой природы» (The Better Angels of Our Nature) отмечает, что жизнь в большинстве стран сегодня безопаснее, чем когда-либо в истории; пресса же, несмотря ни на что, продолжает плодить паранойю. И ослабление контроля за жизнью детей кажется уже вдвойне рискованным: помимо страха перед похитителями, есть еще и страх перед органами опеки.
Иногда создается ощущение, что наша культура придумывает опасности из воздуха, просто для того, чтобы беспокоиться о чем-нибудь. К примеру, администрация публичной библиотеке в Боулдере (Колорадо) запретила недавно детям до 12 лет посещать библиотеку без сопровождения взрослых, потому что «дети могут столкнуться с опасностями, такими как лестницы, лифты, двери, мебель, электрические приборы и т.д.». Ох уж эти дети и библиотечная мебель! Просто гремучая смесь.
К счастью, администрация библиотеки отменила это правило, возможно, не в последнюю очередь благодаря безжалостным насмешкам в прессе. Однако рациональность далеко не всегда одерживает верх в таких случаях. В начальной школе Mesa Elementary School, также расположенной в Боулдере, учащимся был оглашен список предметов, которые запрещалось приносить с собой на традиционную американскую ярмарку знаний и умений. В список вошли «химические продукты», «растения в земле» и «организмы» (живые или мертвые). А мы еще удивляемся, что американские дети показывают столь низкие результаты на международных интеллектуальных тестах.
Возможно, лучшим примером наших фантастических фобий может служить история, произошедшая в Ричленд (Вашингтон). Городская администрация убрала качели со всех детских площадок. Наша любовь к качелям, возможно, даже старше, чем само человечество, принимая во внимание, что наши доисторические предки могли жить на деревьях. Однако представитель одного местного районо объяснил, что «качели являются самым опасным предметом на детской площадке».
Если вы думаете, что в вашем городе этого не происходит, позвольте задать вам вопрос: в вашем городском парке есть карусель или качели-доска? Скорее всего, их постигла та же участь, что и газонный дартс. Комиссия по определению безопасности товаров массового потребления (Consumer Product Safety Commission) даже предупреждает парки об «угрозе споткнуться, исходящей от, например,… пней и камней». Об этом Филип Ховард (Philip Howard) пишет в книге 2010 года «Жизнь без адвокатов» (Life Without Lawyers).
Проблема в том, что дети учатся через опыт. Споткнешься о пенек – и научишься смотреть себе под ноги. Существует давняя поговорка: «Готовь ребенка для пути, а не путь для ребенка». Мы занимаемся прямо противоположным.
Ирония заключается в том, что не ходить, не ездить на велосипеде, не прыгать через пеньки для здоровья намного опаснее. Исследование Джона Хопкинса (Johns Hopkins), проведенное этим летом, установило, что типичный 19-летний подросток ведет такой же малоподвижный образ жизни, как и 65-летний человек. Военные обеспокоены, что новобранцы не умеют подпрыгивать или кувыркаться.
Однако, как показывают многочисленные исследования, цена оберегания детей от рисков намного выше, чем опасности для физического здоровья.
О наградах и травмах
Несколько лет назад Питера Грея (Peter Gray), профессора психологии из Бостонского колледжа, пригласили в качестве руководителя службы психологического консультирования в один крупный университет на конференцию, посвященную «снижению жизнестойкости студентов». По словам организатора, срочные обращения в службу психологического консультирования среди студентов за последние пять лет увеличились в два раза. Более того, обращающиеся просили помощи в решении таких повседневных проблем, как разногласия с соседом по общежитию. Двое студентов позвонили, потому что обнаружили мышь в своей квартире. Они также обратились в полицию, которая прибыла на место происшествия и установила мышеловку. О переживаниях по поводу оценок и говорить нечего. Для некоторых студентов (и родителей) «четверка» - это конец света.
В современных условиях «свободная игра» не имеет с игрой ничего общего. Взрослые контролируют все, когда речь идет об организованных активностях. Но только когда взрослых нет рядом, у детей появляется шанс самим контролировать свою жизнь. Игра – это подготовка к взрослой жизни.
Частично рост обращений в консультационный центр может объясняться тем, что признание в наличии психологических проблем уже не несет в себе «клейма позора», как это было раньше. Это, безусловно, хорошо. Однако, по мнению Грея, это также может говорить о том, что неспособность быть взрослым на самом элементарном уровне также не несет в себе «клейма позора», как это было раньше. И это намного более устрашающе.
Является ли этот результат апофеозом культуры, в которой каждый участник по определению победитель? Легко осмеивать общество, которое учит детей, что любые их действия заслуживают похвалы. Намного страшнее другое: эта культура научила ребенка, что он не может совладать с неприятной правдой – в чем-то он не является лучшим.
Запрещая ребенку залезть на дерево, потому что он может упасть, вы отбираете у него нормальное детство. Однако эмоциональная супер-опека отбирает у него что-то еще. «Мы воспитали поколение, у которого не было возможности испытать неудачи и осознать, что они могут пережить их», - сказал Грей. Когда сын Леноры пришел восьмым из девяти участников в соревнования по боулингу в летнем лагере, он получил «награду за восьмое место». Мораль понятна: мы уверены, что ты не сможешь пережить негативные эмоции, что показал один из худших результатов.
Конечно, желание видеть детей счастливыми – естественно. Однако похвалы и одобрения – не есть секрет настоящего счастья. Он – в развитой эмоциональной жизнестойкости. И эта наша мания физической безопасности вместе с возникшей недавно тенденцией «эмоциональной защиты» лишает наших детей возможности решать непростые и подчас неприятные проблемы, с которыми им необходимо столкнуться, чтобы научиться жизнестойкости. И в нашем желании защитить их мы отняли у детей лучшего учителя жизнестойкости, известного человечеству – свободную игру.
Все дело в игре
Все млекопитающие играют. Так распорядилась мать-природа. Бегемоты кувыркаются в воде. Собаки ловят палки. Газели бегают вокруг, играя в то, что выглядит очень похожим на салочки.
Почему они это делают? Они же теряют ценные калории и подставляют себя хищникам. Почему бы им не сидеть спокойно рядом с мамой-газелью и не познавать мир с помощью канала PBS для детей?
Наверное, потому, что для того, чтобы выжить в долгосрочной перспективе, игра важнее, чем просто «безопасность». Основной акцент в своем исследовании Грей делает на важности игры и подчеркивает, что те игры, которые доступны сегодня нашим детям, имеют с ней мало общего. Когда речь идет об организованных активностях, всем управляют взрослые. Но только когда взрослых нет рядом, у детей появляется шанс на самим контролировать свою жизнь. Игра – это подготовка к взрослой жизни.
В свободной игре участвуют дети разных возрастов. Они решают, во что и как играть. Это в буквальном смысле командная работа. Маленькие дети мечтают быть похожими на детей более старшего возраста, поэтому вместо того, чтобы реветь во все горло при неудаче в игре в бейсбол с ребятами из своего района, они изо всех сил стараются сдержать себя. А это и есть основа взросления.
В то же время дети более старшего возраста аккуратнее бросают мяч малышам. Так они учатся сопереживанию. И если кто-то предложит сыграть на одной ноге (такое совершенно невозможно представить себе в спортивной секции!), дети получат новый опыт, попробуют сделать что-то привычное по-новому. На языке Кремниевой долины, они «поменяют стратегию» и примут «новую бизнес-модель». А еще дети узнают, что они сами, а не только взрослые, могут совместно изменять правила игры, чтобы они больше соответствовали их потребностям. Это называется «демократия участия».
Наконец, без участия взрослых, дети вынуждены справляться со своим проблемами сами, решая, в какую игру играть и следя за тем, чтобы команды были примерно равны по силам. И если возникнет спор, они должны сами разрешить его. Обучиться этому навыку непросто, однако желание продолжать игру мотивирует детей находить выход из ситуации. Чтобы продолжать развлекаться, им сначала необходимо решить проблему. И они это делают. Это учит их, что они могут с чем-то не соглашаться, обсуждать проблемы и, возможно, поворчав немного, продолжать делать свое дело.
И это именно те навыки, которые вдруг оказались в дефиците в университетских кампусах.
«Свободная игра – это инструмент, с помощью которого дети учатся дружить, преодолевать свои страхи, решать собственные проблемы и в целом брать в свои руки контроль над своей жизнью», - пишет Грей в работе 2013 года «Свободен учиться» (Free to Learn). «Что бы мы ни делали, сколько бы игрушек ни покупали, сколько бы времени ни проводили с детьми, во сколько бы кружков их ни водили – ничто не компенсирует свободы, которую мы у них отнимаем. Тем вещам, которые дети познают самостоятельно, в свободной игре, невозможно обучить никаким другим способом».
Неструктурированное, не контролируемое взрослыми время для игры – одна из наиболее важных вещей, которые мы должны вернуть детям, если хотим, чтобы они были сильными, счастливыми и жизнестойкими.
Куда делись разносчики газет?
Проблема не только в том, что дети не играют самостоятельно. В наши дни они практически ничего не делают самостоятельно. В статье в журнале The Atlantic Ханна (Hanna Rosin) Розен признает, что «когда моей дочери было 10, мой муж и я вдруг поняли, что на протяжении всей своей жизни она ни разу не провела более 10 минут без присмотра взрослых».
Для предыдущих поколений это казалось бы странной и чрезмерной опекой. В обществе существовали определенные этапы взросления, и большинство признавало их. К первому классу дети должны ходить в школу самостоятельно. Им можно было давать ключ от дома в восемь, отправлять за газетами в 10, начинать нянчить маленьких детей в 12. Но примерно поколение назад эти этапы исчезли, они были похоронены страхом перед похищением детей, активностями под присмотром, выполнением домашних заданий, у которых был абсолютный приоритет перед другими видами деятельности. Сегодня родители знают все об этапах образования своих детей, но не о том, что им нужно, чтобы нормально существовать в этом мире.
Это не обязательно их вина. Позвонив в восемь редакций газет в Северной Каролине, мы обнаружили, что ни одна из них не наймет никого моложе 18 на позицию разносчика. Начальник полиции в Нью Олбани, Огайо, публично заявил, что дети не должны быть вне присмотра взрослых до 16 лет, «порога, когда детям предоставляется чуть больше свободы». Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, еще в 1992 году почти половина 16-17 летних подростков имела работу, сегодня их число составляет 20%.
Ответственность, которая возлагалась на детей еще не так давно, сегодня нечто совершенно неприемлемое. В книге 1979 года «Шестилетний ребенок: любящий и непокорный» был опубликован простой перечень тех вещей, которые должен уметь делать первоклассник: рисовать, используя цветные карандаши, ездить на двухколесном велосипеде, гулять самостоятельно по кварталу, ходить в магазин, школу, детскую площадку, к другу домой…
Постойте… Ходить в магазин в шестилетнем возрасте – самостоятельно?
Конечно, хочется обвинить «родителей-вертолетчиков» в том, что дети сегодня стали менее жизнестойкими. Но когда все первоклассники идут в школу самостоятельно, легко добавить к ним своего ребенка. Когда твой ребенок – единственный, кто так делает, это уже труднее. И дела сегодня обстоят именно так. Нормы резко изменились. Свобода, которая не казалась ничем выдающимся еще поколение назад, стала табу, а иногда даже вне закона.
Хэллоуин, которому серьезно помешали
В Уэнсборо, Джорджия, детям, отправляющимся на Хэллоуин к соседям за конфетами, должно быть не более 12 лет. Они должны быть в костюме и обязательно в сопровождении взрослого не моложе 21 года. То есть если вашим детям 15, 10 и 8 лет, вы не может отпустить их вместе. Пятнадцатилетнему подростку ходить по улице в Хэллоуинском костюме запрещено. При этом в течение еще шести лет он не сможет сопровождать своих сестер и братьев. И все эти ограничения касаются всего одного вечера в году, когда мы традиционно разрешаем нашим детям немного поиграть во взрослых.
Другие школы и общественные центры посылают родителям на дом целые письма с просьбой не разрешать детям наряжаться в «страшные» костюмы. Уже даже появилась новая традиция «багажников с конфетами»: родители паркуют автомобили в круг, и дети берут конфеты из открытых багажников, переполненных ими. Это «спасает» детей от необходимости ходить по улице и стучать в двери соседей. (Что было бы слишком утомительно и страшно). Если это закладывается в детстве, стоит ли удивляться, что и в университете студенты ожидают жесткого контроля на Хэллоуин?
В 2015 году в Йельском университете 13 администраторов написали письмо, содержащее перечень неприемлемых костюмов для студентов. В ответ на это специалист по детскому развитию и лектор Йельского университета Эрика Кристакис (Erika Christakis) предложила разрешить студентам решать самостоятельно. В конце концов, Хэллоуин – праздник, ломающий стереотипы. «Неужели для ребенка или молодого человека больше нет возможности быть немного несносным или… да, агрессивным?» - пишет она. «Неужели мы потеряли веру в способность молодых людей – вашу способность – игнорировать или отметать вещи, которые нам неприятны?»
Видимо, да. Разгневанные студенты окружили ее мужа, профессора Николаса Кристакиса (Nicholas Christakis) на территории кампуса, которым он руководил. Они выкрикивали оскорбительные фразы и требовали, чтобы он извинился за то, что вместе со своей женой верил, что студенты университета способны сами решать какой костюм им надеть на Хэллоуин. «Спокойно!» - крикнула ему одна студентка. «Ваша работа в качестве руководителя кампуса заключается в создании комфортной и уютной атмосферы для студентов!» Ей очень не понравился ответ профессора, заметившего, что его работа, напротив, заключается в создании места для интеллектуального роста студентов.
Как оказалось, Хэллоуин – это идеальная «чашка Петри» для наблюдения за тем, что мы сделали с детством. Мы считали, что ничто для наших детей не является достаточно безопасным. И сейчас мы пожинаем плоды.
Ни веселья, ни радости
Когда родители ограничивают независимость своих детей, они не просто лишают их радости детства. Они лишают самих себя радостей взрослой жизни, когда твои дети проявляют ум, смелость или доброту самостоятельно, без надзора родителей.
Подобную радость описывает в своей колонке журналистка Washington Post. Однажды она ответила на телефонный звонок и испытала шок, поняв, что на том конце провода – ее 8-летний сын. Он пришел домой после школы и, обнаружив, что матери нет, решил пойти в магазин в нескольких кварталах от дома – впервые в своей жизни. Мать побежала на «место происшествия», опасаясь один бог знает чего. Вбежав в магазин, она обнаружила, что ее сын с удовольствием помогает владельцу разложить товар на полке. Ребенок уже пообедал и сделал домашнюю работу. Он никогда не забудет этот день, и его мать тоже.
Когда мы не разрешаем нашим детям ничего делать самостоятельно, мы не сможем увидеть, насколько способными они могут быть. А разве это не есть самая большая радость родительства? Нам нужно облегчить взрослым возможность «отпустить поводья», живя в обществе, которое постоянно предупреждает, что этого нельзя делать. И нужно проследить, чтобы их при этом не арестовали.
Что делать?
Пытаясь защитить детей от всех рисков, препятствий, задетых чувств и страхов, наше общество отняло у них возможность стать успешными во взрослой жизни. Относясь к ним, как к «слабеньким» в эмоциональном, социальном и физическом смысле, общество действительно делает их такими.
Чтобы справиться с этой проблемой, мы создали новую общественной организацию Let Grow Foundation («Дайте расти»). Наша цель – вернуть молодому поколению жизнестойкость, отказавшись от культуры чрезмерной опеки. Мы объединились с профессором Греем, исследование которого мы цитировали ранее, и Шукманом, руководителем «Фонда прав личности в образовании» (Foundation for Individual Rights in Education), который также является нашим президентом.
Мы создаем организацию, которая хочет изменить общественные нормы, политику и законы, заставляющие родителей, школы, городские администрации излишне оберегать детей. Мы исследуем результаты этой чрезмерной опеки, установим связь между независимостью и успехом и запустим проекты, которые позволят вернуть детям немного свободного времени и возможность свободной игры. Прежде всего, мы отрицаем предположение о хрупкости молодого поколения и пропагандируем развитие интеллектуальной, физической и эмоциональной жизнестойкости.
Дети знают, что их родители обладали большей свободой гулять, где им хочется, и имели больше свободного времени, чтобы читать, мастерить, исследовать окружающий мир. Они также понимают, что предыдущие поколения должны были уметь держать удар, в школе и за ее пределами. Мы надеемся, что и сегодня дети начнут требовать такой же самостоятельности и уважения к себе. В конце концов, именно их свобода была отнята.
Мы хотим, чтобы они настаивали на своем праве участвовать в мире идей. Мы хотим, чтобы они слышали, читали, высказывали мнения, которые идут вразрез со status quo. Мы хотим, чтобы они оскорблялись предположением, что они и их одноклассники настолько легкоранимы, что дискуссия должна закончиться, даже не начавшись. Наконец, мы надеемся, что сможем поощрять их скептицизм в отношении политики, «защищающей» их от дискомфорта.
Если эта попытка увенчается успехом, мы вскоре снова увидим детей на улицах. Рядовые неудачи будут считаться «развитием жизнестойкости», а не травмами. Дети будут много читать, свободно выражать себя, разрешать споры без обращения к взрослым и не ожидать, что те решат проблемы за них. Чем скорее взрослые отступят, тем быстрее дети шагнут вперед, демонстрируя смелость перед лицом риска, и обретут счастье в своей независимости.
Наши дети осторожнее и умнее, чем они представляются в нашей культуре. Они заслуживают той же свободы, которая была у нас. От этого зависит будущее благополучие и свобода нашей страны.





Айкун
Очень интересная тема. И наверное авторы правы
Алматинка
Длинная статья... Нас тоже одолевают бесконечные придуманные страхи, гиперопека - наше все. Вспоминаю свое детство, какие мы были счастливые, самостоятельные, и да все навыки взрослой жизни получали во дворе, в классе. Где мы только не лазили! Надо менять стереотипы поведения в отношении воспитания детей.
Edil
Неактуальная статья об иных мирах: У нас с "воспитанием" все в порядке:
Районы и школы поделены между АУЕ-группировками, часто крышуемыми полицейскими.
С 1-го класса дети учатся лицемерить, "приспосабливаться", выживать, - проявлять "здоровые" агрессию (если не ты, то тебя) и жестокость, быть бесчувственными, циничными и равнодушными, платить дань, либо выбивать ее. Не считая таких мелких атрибутов, как курение и выпивка.
Послушность выгодна педагогам, полиции и родителям, которые не признаются в эгоизме даже себе. – Разве Вы не укачивали ребенка, чтобы он не действовал Вам на нервы?
Но, в 1-ю очередь, конечно, послушность выгодна властям.