Кто может быть движущей силой «важных перемен» в развивающихся странах? Ответ на этот ключевой, по мнению многих, вопрос эксперты Всемирного банка дают в своем Докладе о мировом развитии 2017: «Государственное управление и закон».
Начнем, как обычно с цитирования ключевых пунктов из обзора доклада* на русском языке. (Читайте также по этой теме Откуда берутся революции, Что тормозит движение вперед , О роли элит в госуправлении и Инвестиции не заменят политических реформ).
- “Изменения состязательности, стимулов, предпочтений и убеждений – это основные факторы корректировки асимметрии власти на политической арене, которая приводит к более эффективному достижению приверженности, координации и сотрудничества. Но как добиться этих изменений? В этом Докладе определены три движущих силы важных перемен, способствующих развитию: договоренности между элитами (которые принимают распределение власти на политической арене как данность), активное участие граждан (которые пытаются изменить распределение власти на политической арене) и влияние международного сообщества (которое оказывает косвенное воздействие на распределение власти на политической арене) – см. вставку O.9.
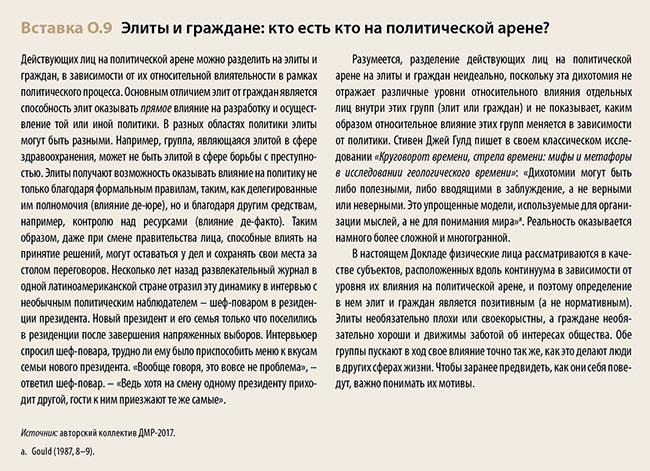
- Во всех странах, вне зависимости от их уровня экономического и институционального развития, элиты заключают между собой договоренности. Перемены в стране маловероятны до тех пор, пока на них не согласятся влиятельные субъекты – элиты. Если влиятельные субъекты сопротивляются переменам, то в стране обычно продолжают действовать неоптимальные меры политики и институты управления, пагубно влияющие на развитие. Однако при определенных обстоятельствах элиты могут добровольно согласиться ограничить свое влияние в своих собственных интересах. Граждане также могут сплотиться для того, чтобы добиться перемен, и сыграть важную роль в оказании давления с целью добиться выгодных итоговых договоренностей в процессе обсуждения политики. Кроме того, процесс государственного управления не замыкается в границах национальных государств. Субъекты международных отношений не могут управлять развитием извне, но могут сыграть важную роль, повлияв на динамику внутренних переговоров посредством укрепления (или ослабления) местных реформаторских коалиций”.
- “Элиты часто принимают решение об ограничении собственной власти – так, как это случилось во время переходного периода в Испании. Изменения “правил игры” часто отражают итоги договоренностей, достигнутых элитами для защиты собственных интересов (вставка O.10). Хотя это может показаться парадоксальным, элиты могут нуждаться в реформах, ограничивающих произвольное осуществление власти в настоящем, для того, чтобы сохранить и расширить свою власть или застраховать себя от утраты власти в будущем”.
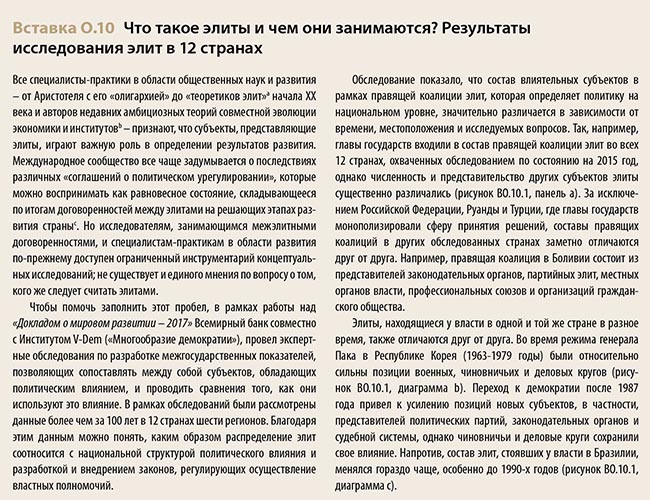
- “Официальные институты – воплощение перехода от сделок к правилам – могут повышать надежность обязательств, устранять проблемы в области координации среди членов элиты и повышать стабильность сделок между элитами. В условиях продолжительных успешных преобразований представители элиты приспосабливались к меняющимся обстоятельствам, создавая более действенные, конкурентные и подотчетные институты, и эти институты сами способствовали дальнейшему развитию.
- У коалиций лиц, принимающих решения, могут возникать стимулы к расширению политической арены в целях сохранения своей власти и влияния, в том числе к кооптации новых субъектов в состав официальных директивных органов и к усилению подотчетности перед другими элитами (горизонтальная подотчетность). Элиты предпочитают узкие коалиции, но, если повышается вероятность развития конфликта, они могут пойти на расширение коалиций в интересах упрочения стабильности. Привлечение новых субъектов в пользующиеся доверием институты в интересах состязательности может оказаться менее затратной мерой, чем подавление этих субъектов, а расширение сферы официальной подотчетности может способствовать формированию внутренних обязательств, облегчающих достижение соглашений.
- Узаконивание подотчетности перед гражданами (вертикальная подотчетность) – например, посредством проведения выборов или избирательных реформ, – также может стать разумной стратегией элиты для сохранения привилегий, особенно в случае ужесточения требований оппозиционной элиты. В условиях раскола между субъектами элиты внедрение механизмов вертикальной подотчетности может способствовать укреплению переговорной позиции одной из фракций. Кроме того, в том случае, если возникающие по инициативе “низов” гражданские движения угрожают интересам элиты, элиты могут принять решение об упреждающем внедрении механизмов вертикальной подотчетности, чтобы удовлетворить требования общества, прежде чем давление достигнет “точки кипения”. Расширению охвата избирательным правом в Европе в XIX веке предшествовали угрозы революций и общественных потрясений, принимавшие форму революционной деятельности в соседних странах и забастовок – в родной стране.
- Хотя элиты часто делают выбор в пользу правил, обеспечивающих им сохранение власти, иногда – в случае, если они признают наличие угрозы продолжению их доминирования, – они могут принять правила, ограничивающие их влияние, в качестве определенной политической страховки. Они надеются, что эти правила будут ограничивать не только их, но и тех, кто придет им на смену. Шансы на создание сплачивающих и ограничивающих институтов возрастают по мере повышения вероятности замены действующего правительства новым. Это – институциональная вариация на тему понятия “занавеса неведения”, сформулированного американским философом Джоном Ролзом: вы создаёте институты, не зная, будете ли вы в дальнейшем подчиняться этим институтам или управлять ими. Например, прозрачность налогово-бюджетной системы связывает руки не только нынешним элитам, но и тем, которые придут им на смену”.
- “Лидеры также могут ускорять инициируемые элитой перемены путем решения проблем в области координации или изменения предпочтений и убеждений своих сторонников. Транзакционные лидеры используют комплекс переговорных стратегий и тактических приемов для усиления координации среди представителей элиты и достижения суммарно положительных результатов (взаимовыгодные решения). Такие лидеры меняют стимулы других элит – они учитывают, кто со временем выиграет, а кто проиграет. Используя политическую стратегию для решения информационных и координационных проблем, они могут помочь конфликтующим сторонам определить области, в которых можно достичь согласия, не обязательно изменяя при этом нормы или предпочтения”.
- “Трансформационные лидеры способны, помимо этого, на деле изменять предпочтения элит или расширять ряды сторонников путем формирования убеждений и предпочтений. Они изобретательно координируют нормы и могут стимулировать большие перемены в обществе, меняя условия политической деятельности, зачастую за счет уменьшения поляризации элит”.
Элементарный анализ свидетельствует, что на сегодняшний день “движущих сил важных перемен, способствующих развитию”, в Казахстане просто нет.
Начнем с “положительного влияния международного сообщества”. Налицо значительное, мы бы даже сказали, критическое снижение интереса к Центральноазиатскому региону и в том числе Казахстану со стороны ведущих западных государств. От попыток внедрить демократию США и Европейский союз перешли к позиции сторонних наблюдателей. Это можно объяснить, как усталостью элит этих стран от неэффективности их усилий, так и тем, что внутренние проблемы в них настолько обострились, что стало не до продвижения демократических ценностей за рубежом. Что же касается России и Китая, то как по внутриполитическим причинам, так и по внешнеполитическим они в политическом развитии Казахстана не заинтересованы.
На политическую активность казахстанцев нет смысла рассчитывать. Она минимальна, поскольку загнана в такое прокрустово ложе, что может проявляться только иносказательно или через социальные протесты, и то в основном в социальных сетях.
Договоренность между казахстанскими элитами сегодня не достижима в принципе, и не только потому, что их качество в целом низкое. Дело еще и в том, что впереди процесс передачи верховной власти в стране, соответственно, цена вопроса резко выросла. Поэтому договоренности между элитами на тему важных перемен в стране неизбежно будет предшествовать ожесточенная схватка. И только когда одному клану удастся задавить все остальные группы, или, наоборот, сложится такой баланс сил, когда никто не будет иметь значимого преимущества, возможно достижение договоренности. Но это займет несколько лет.
Таким образом, скорое и успешное проведение “важных перемен” в Казахстане теоретически возможно только в одном случае – еще большего ужесточения политического режима, когда вместо авторитарного правителя страну возглавит диктатор. Только в этом случае просматривается возможность быстрой консолидации, добровольной и (или) принудительной, элитных групп и затем проведение ускоренной политической, экономической, технической, социальной модернизации по сталинскому варианту.
Другое дело, что превратить Казахстан во вторую Северную Корею, да еще в XXI веке, будет крайне сложно, если вообще возможно. Но и надежда на некоего “транзакционного лидера”, который поведет страну и народ за собой в светлое будущее, также безосновательна.
* Всемирный банк. 2017 год. Доклад о мировом развитии 2017. Государственное управление и закон. Обзор. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. Лицензия: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO





